Воздух города и свобода человека
Главное отличие города и села – вовсе не в наборе жизненных благ, которые они предоставляют, а в самом мироощущении их жителей. Какую роль в жизни города играют страх, вера и свобода? Зачем городу стены и что за ними прячется? Во что играют горожане? Какую свободу они выбирают?
1. Образование как объект метаболизма. В анатомии общества образование давно, со времен (вот насмешка!) Просвещения, покинуло пределы головы, где оно служило цели обеспечения высокого и чистого духа, цели, говоря словами Григория Паламы, «очищения души» [1].
Вначале и, казалось бы, навсегда, оно переместилось в район экономического желудка, подчинив себя потребностям достижения материального интереса. Но, не задержавшись и там, провалилось в конце XIX – начале XX века на уровень двенадцатиперстной кишки проблем социальной мобилизации населения (организации социального поведения). Однако захваченное миллионами низкоклеточных социальных ворсинок ныне оно медленно, но верно стало двигаться в направлении прямой кишки массовых развлечений, всё больше превращаясь в зрелище «как преобладающую форму культурного выражения» [2, с.40].
Не понадобится развитого воображения, чтобы представить, в какую конечную точку организма ведут дело образования его ретивые реформаторы.
Приступив к подготовке этой статьи, я очутился перед выбором. С одной стороны, одухотворить текст. Ведь тема ее – свобода с ее, как утверждает всё тот же Палама, «изначальным достоинством» [1, с.17]. Но это означало бы либо прямую кишку опустить в самую душу, либо душу погрузить в прямую кишку. С другой стороны – полностью пренебречь правилами того образовательного «монастыря», в котором мы теперь с вами находимся – университета. Вторгнуться в него со своим уставом, попрать условия той игры, которая называется «современным образованием». Еще один вариант – попробовать состряпать что-то третье – блюдо, которое, находясь в области прямой кишки современного образования, зловонием своей зрелищности хотя бы не сильно оскорбляло бы душу. Решил идти по третьему – самому скользкому и неблагодарному пути. Таково первое мое предуведомление.
2. Калейдоскоп мыслей. Второе предуведомление посвящено главному инструменту, которым я пользовался. Этот инструмент – не телескоп, который, уставившись в одну точку, простреливает пространство наблюдения на всю его глубину. Это, скорее, калейдоскоп, в котором нет одной точки, как нет и самой глубины. Зато существует некоторая причудливая, набранная из отдельных лоскутков картина. Причудливая и постоянно меняющаяся. В своем праве на такой инструмент я апеллирую к великому Павлу Александровичу Флоренскому, к его идее «круглого мышления», восходящей к самому Пармениду. Повторю за Флоренским: материал моей статьи – «…это – не одно, плотно спаянное и окончательно объединенное единым планом изложение, но скорее – соцветие, даже соцветия, вопросов, часто лишь намечаемых и не имеющих еще полного ответа, связанных же между собою не логическими схемами, но музыкальными перекликами, созвучиями и повторениями» [3, с.26]. Или же, выражаясь его же словами, скажу: в моей статье «строение мысленной ткани – не линейное, не цепь, а сетчатое, с бесчисленными узлами отдельных мыслей попарно, так что из любой исходной точки этой сети, совершив тот или иной круговой обход и захватив на пути любую комбинацию из числа прочих мыслей, притом, в любой или почти любой последовательности, мы возвращаемся к ней же» [3, с.27].
Теперь же скажу от себя: выстраивая статью, я сознательно пренебрёг ценностями обрыдлой и всё умертвляющей логики, которая препарирует жизнь, как древние греки собаку, и оставляет за собой безжизненные трупы схемок и схем. «Сказал Иисус: Тот, кто познал мир, нашел труп…» [4, с.44]. На месте логики я попытался воздвигнуть трепетное, полное жизни знамя топики, отчего лицо моей статьи и не длинноносое, и не крупноскулое. Оно всё в веснушках. В веснушках догадок, в веснушках увлечений, в веснушках собственных изумлений. Моё намерение – вернуть высокое смысловое достоинство фразе: «В огороде бузина, а в Киеве – дядька». Фразе, которая была придана анафеме, как образец нелогичности.
3. Свобода: символы и знаки. Обсуждение темы начну с двух юбилеев. Одного великого по своей проникновенности, но совершенно незамеченного. Другого – также незамеченного, но, скорее, формального. Оба они имеют непосредственное отношение к свободе. Однако никогда и никем до сего дня они не связывались в некое единое смысловое целое.
В 2010 году исполнилось 85 лет со дня смерти японского профессора Хидэсабуро Уэно и 75 лет со дня кончины пса по имени Хатико (Hachiko). Прожив с профессором менее полутора лет, Хатико десять лет изо дня в день ходил на железнодорожную станцию Сибуя встречать своего умершего от инфаркта хозяина и друга. Ходил, отвергнув все попытки семьи, друзей и знакомых профессора обласкать, обогреть и приютить его. Свободно посвятив себя незримой, но метафизически прочной сердечной связи с другом. После его смерти, ввиду широкого резонанса, в Японии был объявлен день траура.

У Хатико и его друга этот год – юбилейный год памяти. Поэтому я и начал с них. Но полувеком раньше (в 1872 г.) Шотландия воздвигла памятник Грейфраерсу Бобби (Greyfriars Bobby), который 14 лет охранял могилу своего друга в Эдинбурге.

А полувеком позже, в 2002 г., русский город Тольятти памятником же увековечил память псу, который долгие семь лет встречал у дороги своих приятелей – молодоженов, погибших на этом месте в автомобильной катастрофе. «Псу, научившему нас любви и преданности» – так звучала надпись на плакате, который предшествовал памятнику. Этот памятник является первым в Тольятти, воздвигнутым не по «политическим соображениям». В наши дни место считается обязательным для посещения молодожёнами как символ нерушимой верности в семейной жизни. По сложившейся традиции, чтобы молодожёны были верны друг другу и счастливы в семейной жизни, псу нужно потереть кончик носа. От этого ритуала кончик носа сейчас стал отполированным.

Таков юбилей первый.
Теперь о юбилее втором. 5 августа 1885 г. был заложен первый камень в основание Статуи Свободы (полное наименование – «Свобода, озаряющая мир»). Автор статуи – французский скульптор Фредерик Бартольди делал статую с овдовевшей Изабеллы Боейер – жены американца Исаака Зингера, создателя и предпринимателя в области швейных машин. «Она освободилась от неловкого присутствия мужа, который оставил ее лишь с самыми предпочтительными в обществе атрибутами: состоянием и… детьми», – писали об Изабелле газеты.

Два юбилея. Два символа. Два пласта. Два разлома. Разлома свободы.
4. Играющий город. До сих пор в большинстве случаев и по преимуществу мы все воспринимаем и обсуждаем город в терминах и понятиях материальной культуры: стены, многоэтажные дома, улицы, фабрики и заводы, численность жителей, местоположение и т.п.
Но для того, чтобы на деле понять город, нужно преодолеть притяжение очевидности и заглянуть в самую его душу. Город – обстоятельство по преимуществу духовное и, прежде всего, духовное. Город – это повседневная нефизическая, незримая связь физически сущих персон.
Обозрим догородской период человеческой жизни (и не только прошлой). Его называют еще первобытным.
Спроси у человека, кто он таков? Получишь ответ: «Ворон». Ни Петр, ни ирокез, ни ростовчанин. «Ворон».


Человек – не персона. Ворон – не человек. Ворон – тотем: устойчивая незримая, нефизическая связь физически не существующих персон. Персон существующих, но не физически. Иначе – персонажей: лиц, действующих в вымышленном (не только художественном) произведении.
Никакое социальное надинидивидуальное действие невозможно без персонификации. В доисторический период персонификация обеспечивалась путем постоянного разыгрывания. Разыгрывания ритуального, отделенного в пространстве и времени от осуществления прямых жизненных функций. В начале разыгрывания стояла инициация – действие принципиальной персонификации (собственно – тотемизации повзрослевшего младенца), затем – посредством постоянного предварительного разыгрывания каждого из существенных социальных актов: охотничьих, военных (охотничьи и военные танцы), замирительных (раскуривание трубки мира), объединительных (потлач) и др.
Процитирую Википедию: «В Африке иногда вместо вопроса, к какому роду или тотему принадлежит человек, спрашивают его, какой танец он танцует. Часто с той же целью уподобления во время религиозных церемоний надевают на лицо маски с изображениями тотема, одеваются в шкуры тотемных животных, украшают себя их перьями и т.д. Пережитки этого рода встречаем даже в современной Европе. У южных славян при рождении ребёнка старуха выбегает с криком: «Волчица родила волчонка!», после чего ребёнка продевают через волчью шкуру, а кусок волчьего глаза и сердца зашивается в рубашку или вешается на шее».
Так человек существовал физически, а его персона витала над ним. Человек и лик человеческий были разделены. Человек был скован кандалами повседневной зависимости, а лик пребывал в царстве, которому только еще предстояло стать царством свободы. Физически данный человек был по-звериному одинок, еще всецело принадлежал миру природы. Бестелесные же персоны уже водили друг с другом хороводы, принадлежа миру культуры. Культуры, уже созданной человеком, но еще не познанной им, еще недоступной своему же создателю. Отблеск этих времен нет-нет, да коснется и нас самих. Мы до сих пор «играем свадьбы», до сих пор в тоске запеваем: «Ах, да почему же я не сокол?».
Доисторический мир – мир призраков человеческой личности. Мир неосязаемой связанности неосязаемых ликов, развешанных по стенам неосязаемого общечеловеческого жилища. Но развешанных в какой-то хорошо отрепетированной тысячелетиями последовательности, развешанных в упорном, незыблемом порядке, по упорным, незыблемым правилам.
Неосязаемое упорство ликов, созданное поколениями, родило в человеке и тягу, и доступ к персонификации этих ликов. Человека тянуло к мистической неосязаемости, которая источала сладкий запах свободы. Упорство, строгая упорядоченность, определенность ликов были беременны доступностью их для человеческой персонификации.
Город стал тем конкретным культурным средством, которое означало осуществление человеком его вековечной тяги к обретению лика. Город позволил человеку стать личностью, то есть впитать в свое физическое, прокопченное рабством тело незримый аромат свободы, в основе которой – игра.
Игра вышла за пределы специально организованных рамок и растворилась, проникла во все закоулки городского пространства. Игра стала и основополагающим, и незыблемым свойством городской жизни. Город стал единой сценой единого длящегося спектакля. В игре город обрел свободу. Но обрел ее ценой необходимости своеобычным, только ему присущим образом играть своеобразный, только ему присущий спектакль. Не взятие городских ворот ведет к падению города, а утрата им своеобычной игры своеобразного спектакля. Не камни городских стен учреждают город. Его учреждает театр. Нет театра – нет и города. Театра во всех его формах и видах: политического (агора, выборы), бытового (чашечки и рюшечки), досугового (балаганы и расшаркивания), производственного («ты начальник – я дурак, я начальник – ты дурак»), средового (миргородские лужи, клумбы, вывески «Иностранец Василий Федоров», как «И вот заведение», архитектуры).
Театр начинается с вешалки, а город – с театра. Театром же и прекращается. Город – царство свободы. Игра – властелин этого царства. Личности (люди, надевшие лики) – его свободолюбивые подданные. Почта, телефон, телеграф были центрами распространения городской игры. Поэтому, желая уничтожить (в лучшем случае – покорить) город, начинали с захвата самих этих центров.
Спрошу вас как строгих присяжных.
Первая группа вопросов:
1. Был ли Робинзон физически одинок (до встречи с Пятницей)?
- Да.
2. Был ли Робинзон одинок незримо?
- Нет.
3. Играл ли Робинзон свой спектакль?
- Да. Спектакль одного актера – изобретение Даниэля Дэфо.
4. Был ли Робинзон горожанином?
- .....
Вторая группа вопросов:
1. Был ли Пятница физически одинок (до встречи с Робинзоном)?
- Да.
2. Был ли Пятница незримо одинок?
- Да.
3. Играл ли Пятница свой спектакль?
- Нет.
4. Был ли Пятница горожанином?
- .....
Итак. Город есть оплот и учреждение повседневной свободы. Своеобычная игра есть способ учреждения города. Всякий, кто открыто взяв роль, включился в эту игру, есть горожанин.
Ростовчанин не тот, кто имеет в паспорте ростовскую прописку. Ростовчанин не тот, кто ведет свою игру. Ростовчанин тот, кто ведет свою игру по-ростовски. Даже если он не имеет в своем паспорте ростовской прописки и ведет свою игру вне Ростова.
Играть по-ростовски одновременно означает «играть Ростовом и на Ростов». Но, играя «Ростовом и на Ростов», можно играть «за Ростов». И тогда песня Ростова льется привольно и широко. Но, играя «Ростовом и на Ростов» можно играть и против Ростова. И тогда песня Ростова спета. Особенно если названием этой песни становится «Песнь о Большом Ростове». О Ростове, которому стало мало самого себя. Форсируя звук свой песни, Ростов глушит свободные песни других. Свобода, лишающая свобод, перестает быть свободой. Игра, разрушающая игру, перестает быть игрой. Так, подросток, приходя в песочницу и навязывая свою игру играющим в песочнице детям, пожинает только плач детей и развалины былой игры.
Легче всего разрушить город, играя в его игру. Легче всего разрушить свободу, играя в свободу.
Здесь я вплотную подошел к вопросу о метафизике свободы. Свобода, учрежденная городом, всегда есть игра. Любая игра, но только не игра в свободу. Свобода, данная городом, повсеместна и повседневна. Однако никогда она – не всеобща. Повсеместность и повседневность образуют физику городской свободы. Она покоится на физически данных связях физических данных персон (то есть людей, играющих свои свободно выбранные роли). Но конституируется город именно нефизическими, незримыми связями незримо же сущих персонажей. Это – метафизика города, незримая ткань его городских свобод. «Семьянин» и «сосед», «друг-товарищ» и «сослуживец», «взломщик» и «градоначальник», «городовой» и «торговец», «артист» и «городской герой», «городской сумасшедший» и «депутат», «сплетник» и «коммунальщик» – таков чуть ли не исчерпывающий перечень персонажей этого городского спектакля, в свободной игре которого (подчеркну: в игре по-своему, по-местечковому, в игре своеобычной) и развертывается, и реализуется городская свобода. Но играют игру конкретные и конкретно живущие люди. Это жизненная игра в жизнь и на жизнь, а порою в смерть и на смерть.
В метафизическом смысле «жить в Ростове» нельзя, ибо это – чистая физика дела. Жить Ростовом и жить для Ростова – конкретная метафизика игры в городе и на город. Город, которым учреждается свобода.
Итак, город – это игра, которая дарует свободу.
Как же на деле выглядит эта игра? Для ответа на этот вопрос взглянем вначале на средневековый город глазами Йохана Хёйзинги. Заглянем под обложку его классического труда «Осень средневековья». Что же мы видим: неумолкающие многоголосные колокольные звоны, возносящие всё преходящее в атмосферу порядка и ясности; причем каждый горожанин разбирался в значении того или иного звона [5, с.8]. Далее – глубоко волнующее зрелище, которое представляли собою процессии. «В худые времена – а они случались нередко – шествия сменяли друг друга, день за днем, за неделей неделя» [5, с.8]. В них участвовали сменявшие друг друга ордена, гильдии и корпорации; они шли всякий раз по другим улицам и всякий раз несли другие реликвии. Многие несли факелы или свечи.
А еще – торжественные выходы блистательных вельмож, которые обставлялись со всем хитроумием и искусностью, на которые только хватало воображения.
А еще – никогда не прекращавшееся изобилие казней. Как пишет Хёйзинга, «жестокое возбуждение и грубое участие, вызываемые зрелищем эшафота, были важной составной частью духовной пищи народа» [5, с.9]. «Спектакли с нравоучением» - так прямо характеризует казни Хёйзинга [5, с.9].
А еще? А еще пусть не так часто, как процессии, казни и звоны, появлялись то тут, то там странствующие проповедники, возбуждавшие народ своим красноречием. «Мы, приученные иметь дело с газетами, – пишет ученый, – едва ли можем представить ошеломляющее воздействие звучащего слова на неискушенные и невежественные умы того времени» [5, с.10]. Приведем описание высокого творчества только одного проповедника – брата Ришара, кому позволили в качестве исповедника быть рядом с Жанной д’Арк. Он проповедовал в Париже в 1429 г. в течение десяти дней подряд. Он начинал в пять утра и заканчивал между десятью и одиннадцатью часами, большей частью на кладбище Невинноубиенных младенцев в галерее со знаменитыми изображениями Пляски смерти. За его спиной, над аркою входа, горы черепов громоздились в разверстых склепах. Когда, завершив свою десятую проповедь, он возвестил, что это последняя, ибо он не получил разрешения на дельнейшие, все, и стар, и млад возрыдали столь горько и жалостно, словно сошлись они предать земле друзей своих лучших и его самого вместе с ними» [5, с.10]. Чем не описание хорошо поставленного театрального представления?
А еще – религиозные мистерии и светские церемонии, каждая из которых исторгала потоки неудержимых слёз [5, с.11].
Самые сложные политические вопросы народ упрощает и сводит «к различным эпизодам из сказок» [5, с.15].
«Знатные господа передвигались, не иначе как блистая великолепием оружия и нарядов, всем на страх и на зависть. Отправление правосудия, появление купцов с товаром, свадьбы и похороны громогласно возвещались криками, процессиями, плачем и музыкой» [5, с.7].
И, конечно же, знаменитые, не знающие продыха балаганы.
Таков играющий город в эпоху его классического расцвета.
Но куда делась эта городская игра – этот дух истинной свободы – сегодня? Куда она закатилась? Никуда! Просто ее повсеместно демонстративные, кичливые и грубые (Хёйзинга) формы приобрели теперь повсеместно бытовой характер, мышкой юркнули в закоулки жизни, изъеденной хитросплетениями. Разве не играем мы каждое утро, заглядывая в свой платяной шкаф? Разве не играем, наводя по утрам макияж? Разве не смотримся в зеркало? А выбор маршрута движения к месту отдыха или работы – кто скажет, что нет в этом игры? – Игра, и самая пренастоящая: какой дорогой пойти, каким видом транспорта проехать, с кем встретиться, а кого обойти стороной… А отношения с работодателями, когда «те делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем на них»? А взаимоотношения начальников с подчиненными, организованные по принципу «ты начальник – я дурак, я начальник – ты дурак»? А взаимоотношения в школьной или университетской аудитории, когда «одни изображают, что учат, а другие, что учатся»? Кровное (до кровной мести родство) и тесное (до круговой поруки) соседство обернулись игрой в родственников-соседей по правилу: «лучше близкий сосед, чем дальний родственник»?
А фальсификация продуктов и брэндов, а потребительский кредит, а мыльные пузыри, а индустрия надувательства, пышно именуемая маркетингом – все эти бурно растущие формы делового обмана, «невинного», как назвал его Джон Гэлбрэйт, подводя итог своей жизни [6]? Игра, всё игра: игра свободная (вплоть до безнаказанности самых злостных преступлений), игра неудержимая (вплоть до смертей заигравшихся наркоманов).
Игра – не бесхитростный труд селянина по принципу «как потопаешь, так и полопаешь». «Делу – время, потехе – час» – это не для горожанина. Горожанин всегда в игре, всегда в потехе. Прекрати игру, приступи он к делу – и тут же прёт из него деревня. Говорим же: «Труд превратил обезьяну в человека, а человека – в лошадь». Когда «не до шуток», когда «день год кормит», когда зануда, когда зубоскальство настораживает, а слёзы унижают, это – село.
Село, конечно, тоже играет. Но не сутками напролет, не напропалую, не везде. Играет в строго отведенное для того время и в специально оговоренных местах. Играет свадьбы, играет праздники урожаев, играет масленицу и рождественские святки. Для этого жутко, по-балаганному наряжается, нарочито, до безобразия расписывает лицо.
Песня Найка Борзова «Я маленькая лошадка» для селянина – жалоба полезного (но почему-то очень дорогого) сельского животного на нелегкую свою долю с присандаленным для рифмы словом «кокаин».


Для горожанина – гимн наркодилеру с ввинченным для хохмы словом: «маленькая лошадка».
Телепрограмма Елены Перминовой «Жизнь без наркотиков» для прямодушных селян – призыв жить без того, на что у них нет денег.

Для изощренных горожан – закодированный клич к пожиранию экстази.
5. Стены свободы. Силы духа лепят, воплощают внешний, материальный облик города, а не наоборот. Материальный облик лишь поддерживает, несет то, что творится в душе горожан. Вначале горожанин, потом – город.
Стены города, воздвигнутого древними, были отшлифованы Средневековьем. Именно этот безусловный факт заставляет меня проследить тему города на материале Средних веков.
«Бросающееся в глаза обстоятельство, – пишет наблюдательный Фернан Бродель, - почти все города в XV-XVIII веках имели укрепления… Они оказывались заключенными в принудительные геометрические очертания, укрепившимися и отделенными тем самым даже от непосредственно принадлежащего к ним пространства.
Речь шла, прежде всего, о безопасности. Лишь в нескольких странах такая защита была излишней, но исключения подтверждают правило» [7, с.522]. В подтверждение знаменитый историк ссылается на «Словарь» Фюретьера (1690 г.), который определяет понятие «город» как «место обитания достаточно многочисленных людей, обычно замкнутое стенами». «Средневековый город (это уже Йохан Хёйзинга) не переходил, подобно нашим городам, в неряшливые окраины с бесхитростными домишками и унылыми фабриками, но выступал как единое целое, опоясанный стенами и ощетинившийся грозными башнями» [5, с.7-8].
Ни численность населения, ни местоположение, никакие другие признаки не были такими упорными спутниками города, какими были окружавшие его стены. В самом деле, по своей численности города варьировали от 400 жителей до многих и многих тысяч. С другой же стороны, разбухшим и даже сливавшимся друг с другом многотысячным деревням не обязательно суждено было сделаться городами [7, с.511].
Справедливости ради отмечу, что сам Бродель, терзаемый противоречиями, все-таки утверждал: «Город существовал как город лишь в противопоставлении образу жизни, более низкому, чем он сам. Это правило не знает исключения, и никакие привилегии его заменить не в состоянии» [7, с.511]. Да, тонко. Да, философично. Но стены, куда же деть эти несносные, грубые стены? Двигаясь в лабиринте противоречий, историк роняет: «Для многих городов Запада такое «каменное кольцо», построенное в XIII-XVI вв. было «внешним символом» сознательного стремления к независимости и свободе» [7, с.522]. Роняет и, увлеченный выдвинутой философемой, движется дальше, не заметив, что сказанное дает ключ к органичному объединению несовместимого.
Пойдя в подмастерья Броделю, сделаю это за маститого ученого. Подберу и рассмотрю те драгоценные крохи, которыми он так щедро усыпает свой путь.
Выделю в брошенной фразе три ключевых термина: «каменное кольцо» стен – символ – свобода. Но мыслительная конструкция не будет полной, если её не дополнить тем фактом, что, как утверждает сам же Бродель, это «каменное кольцо», эти стены были «защитой от внешнего врага».
Теперь все персонажи в сборе. Можно слагать картину. Страх перед внешним врагом первым вступает на сцену процессов градообразования. Часто, очень часто каждый из нас видел, как страх сбивает людей в кучу, сплачивает их. Страх – великая сила сгущения. Холодные воды страха рассыпчатую муку бытия обращают в вязкое тесто со-бытия. Охваченные страхом люди сбивались друг с другом в «кучу», которая и стала провозвестником города. Не знавшие страха, бесстрашные, остались на селе. «Волка бояться – в лес не ходить» - это пословица не селян, она – порождение горожан. Для селянина и лес, и волк, и рождение, и смерть – обычный повседневный фон его быта. Как зима и лето, восход и закат. «Убьют, так убьют. Новых нарожаем», – вот простая жизненная установка, которой следует любая деревенщина и которая образует тот «идиотизм деревенской жизни», на который негодовал В.И.Ленин. Но в толщине деревенских пластов то тут, то там появлялись отдельные люди, которые отделяли себя от своих повседневных занятий. Люди, в которых пробуждалось сознание ценности, безвозвратности и невосполнимости человеческой жизни. Люди, которых обуяло чувство страха перед угрозой смерти от зубов ли хищника, от меча ли врага. Многие и многие из них, ошалев от страха, веками бежали от него. Бежали, бросая семьи и имущество, бросая насиженные места. Бежали, унося с собой только самое ценное – жизнь. Бежали, но не добегали. Не добегали до той поры, когда их вдруг оказалось какое-то ощутимое, давшее устойчивость множество. Множество, способное решить единую для всех них задачу – спасти ценность, невосполнимость и незаменимость своей собственной жизни. Так, дошедши до своего предела, страх породил крепостную стену как средство против него самого.
Стена как символ преодоления страха – второе действующее лицо. Оно своим появлением конституирует город. Оно, это второе лицо – постоянный и неизбежный спутник города. Подчеркну: не как вещественно данная стена, а как нематериальный символ преодоления извечного страха. Поэтому город может существовать без брутальной стены. Вначале это было, как отметил Бродель, исключением, подтверждающим правило. Теперь это – правило, не знающее исключений. Но город не может быть городом без того, что его конституирует – без средств преодоления страха. Без стен в их нематериальной, неосязаемой ипостаси.
Но что там, за стенами? Там – преодоленный страх. Там – самое свобода. Свобода, которая и есть преодоленный страх. Свобода, внешним символом сознательного стремления к которой было «каменное кольцо». Свесив ноги по обе стороны средневековых стен, мы по одну сторону ощутим знобящие волны страха, а по другую – жар обретенной свободы. Так свобода оказывается третьим персонажем нашей картины. Свобода, ставшая неотторжимым (наряду с самим страхом) содержанием средства преодоления страха.
Взгляните хотя бы на входную дверь своего собственного дома. С наружной стороны она ощетинилась страхом брони, домофона. Изнутри она ласково блещет вам отсветами нежной обивки, подчеркивая безмятежность внутреннего пространства.
Я в чем-то сближаюсь с Мартином Хайдеггером, согласно которому основным состоянием бытия является страх — страх перед возможностью небытия, страх, который освобождает человека от всех условностей действительности и, таким образом, позволяет ему достигнуть в некоторой степени свободы. Видите, и у этого великого экзистенциалиста страх порождает свободу. Но только порождает иначе, чем у меня. У Хайдеггера свобода рождается тем, что страх освобождает людей от всех условностей действительности. У меня свобода есть деятельный продукт средства преодоления страха.
Большая разница между страхом и ужасом. Ужас мраком своим застилает пространство. В ужасе нет точек отсчета, нет никаких координат. Человек, охваченный ужасом полностью дезориентирован. Страхи – совсем иное. Страх – это бреши, пробитые в ужасе ударами человеческой воли или (что чаще всего) – вдруг обретенным чувством чужого плеча. Страхи – это звезды, пробившиеся на иссиня-черном покрывале беспросветного мрака. Столбняк ужаса умерщвляет. Страхи, рассеянные во многих местах, подобно многозвенной цепи, хотя и ограничивают движение, но создают направленное движение: движение воли к освобождению от них. Страх, сконцентрированный в одном-единственном месте, абсолютный страх, страх истинный – и раскрепощает, и дает человеку крылья. Вновь обращусь к святому Григорию Паламе: «Мы не смогли прилепиться к очищающей душу науке, начало которой – страх Божий, рождающий непрестанную умиленную молитву к Богу и соблюдение евангельских заповедей, вслед за чем приходит примирение с Богом, когда страх преображается в любовь и мучительность молитвы, превратившись в сладость, взращивает цветок просвещения, от которого словно благоухание, разливающееся на несущего этот цветок, приходит познание Божиих тайн» [1, с.15]. Познавший не на словах – на деле страх Божий, епископ Григорий Палама знал, о чем говорил.
Город – и концентратор: таковы его стены. Но город и направитель потоков страха: таковы ворота – проходы для страха, проделанные в его стенах.
Итак, свобода есть одно из двух противоположных содержаний средства преодоления страха. Но что выступает содержанием самой свободы? – Вера, бес-страшие. Свобода рождается страхом и потому не свободна от него. Подобно бежавшим из Египта евреям, она должна родить из себя свое собственное потомство, но потомство бес-страшное, свободное от страха. Им, этим потомством свободы, и является вера – свет, который не знает тени. Ни тени страха, ни тени сомнений. Здесь я решительно не согласен с Гилбертом Честертоном, который в «Вечном человеке» пишет: «Они томятся в тени веры, но утеряли её свет» [8, с.21]. Повторяю: свет веры не отбрасывает тени. В противном случае он ничем не отличался бы от света разума. Света осторожного, света робкого, света боязливого, света сомневающегося. Страх и сомнения – пот, выделяемый разумом, его естественные экскременты, которые сам он и пожирает. Сова Минервы вылетает ночью. Боящийся разум возводит стены. Стены рождают свободу. Свобода разрождается верой. Вера, бес-страшная вера и есть четвертое действующее лицо нашей городской картины.
В отличие от знания – этого свойства разумности, вера живет во-ображением. Златокудрое дитя свободы, она плещется и играет под покровом своей бдительной матери.
Но что творит бесстрашная вера, в чем находит она свой собственный выход? Зло и добро. Добро и зло. Два в одном. В одном и том же – в городе. Хёйзинга: «То в неожиданных взрывах грубой необузданности и зверской жестокости, то в порывах душевной отзывчивости… протекала жизнь средневекового города» [5, с.8].
Уточню: конкретная метафизика города не приемлет двулично абстрактных понятий как добра, так и зла (ведь, например, яростное око зла, глядящее на одних, всегда косит ласкою в отношении к другим). Ее повседневность знает только сменяющие друг друга возгласы счастья и рыдания горя, скрежет жестокости и «порывы душевной отзывчивости», доброты, крики насилия и нежное дыхание милосердия. Непрерывная смена ролей – повседневная пища повсе-местной свободы.
Страхи, гуляющие в обществе, и собираются, и сгущаются, будто пчелы, именно в городе – в этом улье страхов. (Не зря ж говорят о «Граде Небесном».) Им же, городом, и преодолеваются. Преодолеваются, испуская вначале кванты свободы, далее – всполохи веры, затем – завихрения воли, и, наконец – акты жестокости и доброты. Жестокости, которая, разрастаясь, вновь генерирует ужас. «Бедствие – вот из чего творится история» [5, с.33].
6. Город: играем со страхом. Последняя книга великого Джона Кеннета Гелбрейта «Экономика невинного обмана» выросла из его изумления, насколько дурно обращаются с языком все современные экономисты [6, с.7]. Отойду от этого экономического правила и призову прислушаться к языку: «град» – «страх» – «игра». Разве не нашептывает нам музыка языка о родственности этих трех слов? Родственности пусть не семантической и не этимологической, а хотя бы о родственности музыкальной?
В чем же смычка, в чем точка слияния игры и страха – эти двух устоев, на которых воздвигнут город? В чём средоточие тех путей (игры и страха), которые образуют город? Страх (повторю) – величайшая из жизненных сил. И силою своей он питает игру. Разве, чтобы отвлечь ребенка от страшных картин, вы не начинаете заигрывать с ним? Разве построенные на страхе «ужастики» – эти кинематографические или мультипликационные формы игры со страхом – не служат средствами преодоления страха, дополняя, достраивая тем самым невидимые стены всех современных городов?
Да, свобода – дело трагичное. Трагичное и тогда, когда за нее приходится бороться, и (в особенности) тогда, когда ею приходится пользоваться. Ломать комедию здесь не приходится, если, конечно же, не увлекаться расхожими либеральными штампами. Воздух города, делающий, человека свободным, насыщен звуками человеческих страданий. Именно поэтому свобода (свобода, заметьте, именно городская) – не ярмарочная игрушка и не ржавеющая в своем торжественном величии абстрактная статуя, а щемящий образ реальных, блестящих от повседневных прикосновений, Верного (Костика) или Хатико. Она – вещь гиперответственная и цена этой ответственности – жизнь и судьба.
«Ехал в автобусе, было много людей, несмотря ни на что, смотрел (фильм о Хатико – Г.Д.) и плакал, рядом сидел лучший друг, мечтал, чтобы и тот был таким верным как наш Хатико».
Не происходи этот акт любви в городе, на глазах у многих и многих, он, оставаясь сам по себе бесподобным и совершенным по своей чистоте действием, разве стал бы символом, стал бы высочайшим эталоном свободно изливаемой добродетели? Разве воплотился бы этот чудный по своей красоте акт в металл отлитого на народные подаяния памятника? Разве сияли бы нос и лапы памятника от прикосновения тысяч и тысяч людей, желающих впитать в себя хотя бы малую долю мощной сердечной энергии – энергию истинно высокой любви? Подчеркну: Хатико умер в возрасте двенадцати лет – возрасте, почтенном для собаки, да еще живущей в неимоверно трудных условиях. Он умер не от тоски: от обычной собачьей старости, которая ослабила иммунные силы его организма. Умер от старости. А жил чем? Верностью и Любовью. А значит, для него никогда и никуда не исчезал, не пропадал конкретный субъект этой верности и любви – профессор Хидэсабуро Уэно.
А вот в день памяти узника совести, лауреата Нобелевской премии, выучившегося в г.Ростове-на-Дону, Александра Исаевича Солженицына к его мемориальной доске, что на здании бывшего мехмата РГУ, пришли в этом году только пять человек (не считая оператора телевидения). Пять человек в огромном городе Ростове-на-Дону.
Так по-разному, но равно пронзительно могут выглядеть на одной стороне одинокое чувство любви в городе, а на другой стороне чувство одиночества самого нелюбящего города. Символ свободной человеческой Памяти и символ свободного человеческого Забвения. Свободный символ признательности к тому, кто научил Любви. И символ свободной же неблагодарности к тому, чьими усилиями была обретена сама эта свобода теперь нелюбящих, неблагодарных. Неблагодарных, которых раньше, лет двадцать назад, насильно сгоняли на площади изображать признательность и благодарность тем, кого люди эти тихо ненавидели.
Город: играем со страхом. Воздух города делает человека свободным!
- Палама Григорий. Триады в защиту священно безмолвствующих. СПб: Наука, 2004.
- Лэш Кристофер. Вырождение спорта// Логос. Философско-литературный журнал. №3, 2006.
- Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Т.2. М.: Изд-во «Правда», 1990.
- Евангелие от Фомы. Ростов н/Д: Феникс, 2007.
- Хёйзинга Йохан. Осень средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. М.: «Наука», 1988.
- Гэлбрейт Джон Кеннет. Экономика невинного обмана: правда нашего времени. М.: «Европа», 2009.
- Бродель Фернан. Материальная цивилизация, экономика, капитализм. Т.1: Структуры повседневности: возможное и невозможное. М.: Прогресс, 1986.
- Честертон Г.К. Вечный человек. М.: РИПОЛ классик, 2006.




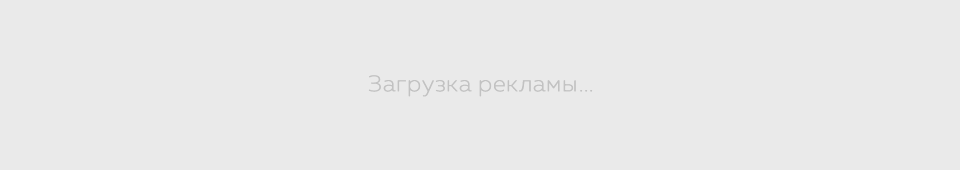

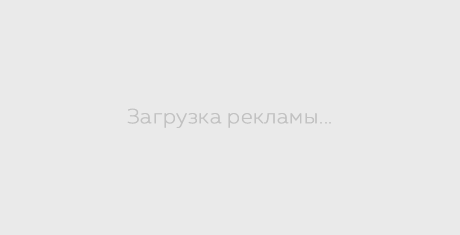
























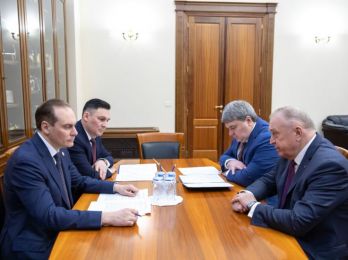


Написать комментарий