В ушедшую эпоху глобализации было принято считать, что растущие информационные потоки и услуги, производимые цифровыми компаниями, олицетворяют новый прекрасный мир без границ и бесконечными возможностями для каждого человека. Однако за фасадом якобы бесконечно свободных информационных вселенных Ютуба и Гугл скрывается сверхжесткая национальная регуляторная политика.
В период расцвета глобализации 1990-2000-е годы, когда все учебники экономики славили свободную торговлю, они уделяли внимание и вопросам регулирования внешнеторговых отношений, выделяя в них как тарифные, так и нетарифные барьеры (НТБ). Я сам как автор учебника «Международная экономика» 2006 года с большим интересом, прежде всего для себя самого, выделил эту проблему. И тогда экономисты-международники хорошо знали, что именно Европейский союз (ЕС) хорошо преуспел в использовании НТБ, что позволяло европейским странам за лицемерной вывеской низких ставок ввозных таможенных пошлин надежно защищать свои рынки от иностранной конкуренции. Учебники использовали понятие «тарификация нетарифных барьеров», т.е. перевод в тарифный эквивалент суммарной «мощности» НТБ, проводились исследования количественного уровня этого понятия, и они приходили к шокирующим результатам, когда для импортной продукции на рынках европейских стран фактический размер тарифной и нетарифной защиты составлял сотни процентов (!!!) при номинальной ставке пошлины, например, в 5%.
Вот так Европа под прикрытием демагогии свободной торговли проводила свою малозаметную, но сверхэффективную протекционистскую политику. Повторюсь еще раз, это было очень хорошо известно и не было даже секретом полишинеля. Все об этом знали, но до поры до времени эта защитная технология ЕС прекрасно работала в рамках глобалистского мироустройства, пока Д.Трамп не взбунтовался и решил начисто сломать весь этот псевдорыночный порядок. Но Трамп как известно, «сломал» Европу в тарифной области – 15% на импорт европейских товаров в США и 0% на импорт американских товаров в Европу. Да, это крупное достижение, если учитывать, что до этого ставки тарифов в целом были близки к обратным. Например, пошлины на импорт немецких легковых автомобилей в США составляли 2,5%, а обратный поток – 10%. Такая разница частично объясняет десятикратный перевес Германии в торговле автомобилями с США.
Однако тарифная победа Трампа не решит полностью проблему хронического отрицательного баланса внешней торговли с ЕС без урегулирования вопроса о НТБ, особенно в сфере высоких технологий, прежде всего, на рынках цифровых услуг.
Европа осознает свое значительное отставание от США в цифровой сфере, невозможность даже самых передовых цифровых компаний конкурировать на равных с американскими гигантами, и поэтому выстраивает огромную регуляторную базу по сдерживанию проникновения иностранных ТНК на местные рынки цифровых услуг.
В последние годы агрессивный подход ЕС к регулированию крупных цифровых компаний включает в себя существенные штрафы и бремя соблюдения требований в соответствии с Общим регламентом по защите данных (GDPR), Законом о цифровых рынках (DMA), Законом о цифровых услугах (DSA) и Законом об искусственном интеллекте (Закон об ИИ). Великобритания также ввела аналогичные законы - Закон о конкуренции на цифровых рынках и защите прав потребителей (DMCCA) и Закон о безопасности в Интернете (OSA). Хотя эти меры якобы направлены на защиту европейских потребителей и обеспечение добросовестной конкуренции, они непропорционально сильно влияют на американские технологические компании и, судя по всему, структурированы таким образом, что бремя регулирования сосредоточено на технологическом секторе США, принося при этом значительные доходы властям ЕС.
Европейские чиновники обычно оправдывают эту политику такими целями, как цифровой суверенитет - концепция, якобы касающаяся контроля, безопасности и устойчивости, но часто трансформирующаяся, по сути, в протекционистские меры, направленные на снижение технологической зависимости, особенно от американских технологий. Хотя заявленные цели подчеркивают защиту прав потребителей и честную конкуренцию, практический эффект часто совпадает с традиционной протекционистской политикой: создание неблагоприятных условий для ведущих иностранных компаний и создание возможностей для отечественных или альтернативных игроков.
Эта динамика особенно актуальна в таких секторах, как облачные вычисления, цифровая реклама и экосистемы приложений. Например, поддерживаемые ЕС инициативы, такие как Gaia-X, якобы направленные на создание федеративной европейской инфраструктуры данных, и национальные системы сертификации, такие как французская SecNumCloud, предъявляют строгие требования к локализации данных, протоколам безопасности и управлению, которые могут фактически ограничить доступ на рынок крупных американских поставщиков облачных услуг, таких как AWS, Azure и Google Cloud.
Эти усилия, предпринимаемые под лозунгом суверенитета, направлены на защиту или продвижение отечественных альтернатив путем создания регуляторных барьеров для ведущих иностранных поставщиков. Увеличивая издержки и операционные трудности для американских компаний, действующих в различных цифровых секторах, регулирование ЕС действует аналогично тарифам в плане защиты сегментов внутреннего рынка.
Несмотря на использование, казалось бы, нейтральных критериев для определения платформ, подлежащих регулированию, таких как высокие доходы и пороговые значения для пользователей, нормативно-правовая база ЕС, такая как Закон о цифровых рынках, оказывает явно непропорциональное влияние на американские технологические компании. Наиболее показательно, что Закон ЕС о цифровых рынках (DMA) изначально определил шесть юридических лиц в качестве «контролеров», подлежащих особым обязательствам, пять из которых являются американскими компаниями: Alphabet (США), Amazon (США), Apple (США), ByteDance (Китай), Meta (США) и Microsoft (США). (Позже к ним присоединилась голландская компания Booking.com.). Этот результат не был случайным: в ходе законодательного процесса Андреас Шваб, докладчик Европейского парламента по DMA, заявил, что в ходе законодательного процесса регулирование должно быть сосредоточено на пяти ведущих американских компаниях, и прямо отверг предложения о включении европейских фирм, назвав их попытками угодить Соединённым Штатам.
Британский Закон DMCC применяет аналогичный подход, используя пороговые значения выручки, которые, по всей видимости, также рассчитаны на крупные американские технологические компании. Действительно, единственными компаниями, подпадающими под действие этого закона, до сих пор были Alphabet и Apple. Хотя ЕС сохраняет объективность критериев оценки и независимость от национальности, этот результат отражает то, как тарифы могут избирательно применяться для воздействия на экономические интересы отдельных стран. Это противоречит здравому смыслу, предполагающему, что ЕС принял бы закон, направленный против пяти европейских компаний и только одной американской.
Другие европейские меры, такие как национальные налоги на цифровые услуги (DST), принятые государствами-членами, включая Австрию, Францию, Италию и Испанию, используют высокие пороговые значения доходов (например, 750 млн евро в глобальном масштабе) и нацелены на конкретные цифровые услуги (такие как онлайн-реклама и торговые площадки) способами, которые в первую очередь затрагивают лидеров американских технологических компаний. Это побудило Торгового представителя США (USTR) расследовать налоги DST и прийти к выводу, что они являются дискриминационными по отношению к американским компаниям, обременяют торговлю США и представляют собой налоговое вымогательство со стороны ЕС.
DMA и DMCCA уже вышли далеко за пределы своих границ, став глобальным образцом технопротекционизма. Десятки юрисдикций в настоящее время внедряют или разрабатывают аналогичные цифровые антимонопольные правила, многие из которых нацелены на американские технологические компании. К сожалению, другие союзники США не являются исключением из этой тенденции. Например, Япония недавно приняла и вскоре начнёт применять закон о смартфонах, который накладывает на Apple и Google ряд строгих требований к поведению. В качестве еще одного примера глобального стремления к цифровому управлению ex ante Южная Корея продолжает рассматривать возможность регулирования собственных платформ, включая недавнее потенциальное предложение, направленное на регулирование посредников онлайн-платформ, другими словами, ряда ведущих американских технологических компаний.
Масштаб финансовых потоков, получаемых европейскими странами от выполнения указанных законов, подчеркивает их экономическую значимость и согласуется с функцией получения доходов, исторически связанной с тарифами. Фактически, штрафы, наложенные на крупные американские технологические компании, составили в 2023 году 2,03 млрд долларов, что составляет почти 6% от тарифной базы доходов ЕС в размере 34,2 млрд долларов за год. К 2024 году размер зарегистрированных штрафов значительно вырос и составил почти 6,7 млрд долларов, что составляет примерно одну пятую от той же базы.
Несмотря на формальное обозначение как меры регулирования, эти меры представляют собой существенные торговые барьеры, выходящие за рамки типичных нетарифных барьеров (НТБ) и фактически представляющие собой систему тарифов для американских технологических компаний. Хотя юридически эти финансовые изъятия отличаются от импортных пошлин (которые являются штрафами за нарушение правил или сборами за соблюдение требований), по своему экономическому воздействию они аналогичны тарифам:
- Они возлагают это бремя на крупные иностранные компании (в данном случае американские), которые глубоко инвестировали в рынок ЕС и, следовательно, вряд ли уйдут с него, что делает эти меры не столько барьером, сколько сбором за извлечение прибыли для игроков, привязанных к определенным рынкам.
- Они часто носят карательный характер и направлены на извлечение существенной прибыли непосредственно из целевых компаний посредством крупных штрафов (в отличие от многих нетарифных барьеров, которые в первую очередь налагают расходы на соблюдение требований).
- Они приносят европейским властям существенный доход.
- Они создают экономические трудности и потенциальные препятствия для участия на рынке или его расширения.
- Штрафы, которые часто рассчитываются на основе мирового дохода, потенциально огромны и несоразмерны локализованным действиям или ущербу, выступая в качестве значительного экономического изъятия, аналогичного высоким тарифам.
Таким образом, американо-европейские торговые противоречия выходят далеко за рамки товарной торговли и носят гораздо более неупорядоченный характер на рынках цифровых услуг. ЕС возвел мощные заградительные барьеры в этой сфере, которая, казалось бы, уже по самой своей природе олицетворяла глобалистские ценности в виде неограниченных потоков ресурсов и информации. Однако почему ЕС рассматривает именно США, а не Китай, в качестве главного цифрового соперника? Об этом расскажем в следующей статье.



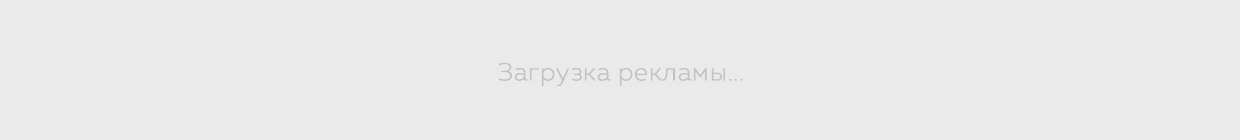
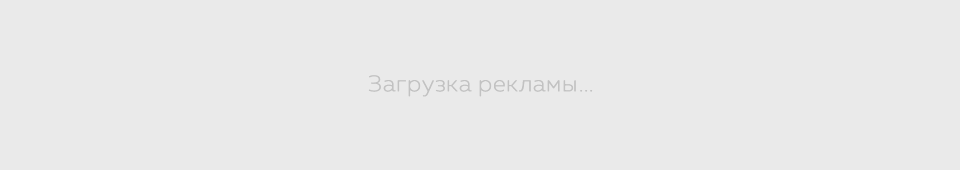
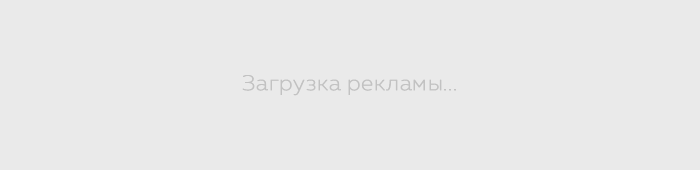
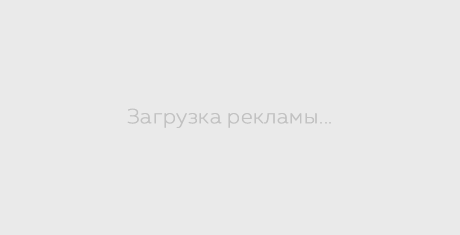



















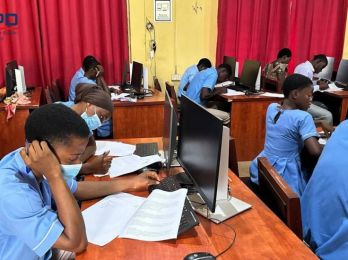








Написать комментарий