В 2011 году вышла в свет в издательстве «Питер» книга Дэвида Бейлса и Теда Орланда «Искусство и страх». О чем эта работа, обеспечившая авторам и издателям двадцать пять тиражей и более миллиона читателей по всему миру? И насколько важно понимание разности культурных кодов в области этики и эстетики?
Книга «Искусство и страх» – результат семилетней работы американского тандема Дэвида Бейлса и Теда Орланда – имеет подзаголовок «Гид по выживанию для современного художника», который, надо полагать, и обеспечил «двадцать пять тиражей и более миллиона читателей по всему миру». Читая книгу, наверное, нужно понять для себя: чем чревато сугубо социальное искусство? Насколько прочна причинно-следственная связь между художником, обществом и системой общественных отношений? И насколько важно понимание разности культурных кодов в области этики и эстетики?
1. Чистое искусство
Искусство, творящееся ради искусства, не имеющее цели кроме самого себя легко счесть отрешенным, аутичным и идеализированным. Некоей вещью в себе, герметичной и отмежеванной от мирской суеты. К тому же с точки зрения капиталистически-демократической идеологии, от которой авторы «Искусства и страха» плоть от плоти, подобный род деятельности не рассчитан на извлечение материальной выгоды и пользы. Творческая личность, избравшая бескорыстное восхождение на артистический пик, отрешена от рыночных законов производства на потребу обществу. Соответственно она маргинальна и живет по заповеди: «чтобы творить художник должен быть голодным».
Краеугольный камень прагматизма в американской социокультурной формации проверочное слово, один из операторов мышления и горизонт обыденного восприятия. Продукты человеческого труда без тени полезности перестают замечаться. Иначе, американский универсум их не классифицирует, не принимает такие объекты в оборот и во внимание. В «Гиде по выживанию» авторы, явно путающиеся в терминологии, называют феномен бесполезного искусства рефлексивным, забывая, однако, что вспышки озарений, вдохновения, эпифаний – давняя прерогатива сюрреалистических практик, уложенных в модернистский дискурс начала XX века. Хотя общая колченогость и хромоногость теоретической базы сочинения налицо с первых неряшливых рассуждений и постановки проблемы. Дело в том, что модернизм и его установки в высшей мере индивидуальны, порой до болезненного солипсизма. И не удивительно, ведь модерн обозначил системный кризис европейского сознания, окончательно и беспрецедентно сделав индивида атомарным фактом, а рассказ о факте – человеческим документом.
Уважение индивидуальности и выстраивание толерантной коммуникации разно заряженных единиц вселяют либеральный дух в общественное тело. Сам же демократический принцип большинства противоположен либерализму. Вот и художник из равноправной толпы должен ей потрафлять и согласовываться с большинством, дабы достичь желанного успеха. «Такая система верований служит движущей силой американской мечты и кризиса среднего возраста», - пишут авторы. Становится понятно, что руководство «Искусство и страх» к нам пришло из ментальных далей, перпендикулярных российскому культурно-историческому опыту. Фигура творца в России имеет моральную плоскость. Он призван не фокусироваться и отражать, но исповедоваться, либо проповедовать. У него, если угодно, метафизические параметры другой системы измерения, более архаичные, чем буржуазные. И никакого «гида» для сомневающихся не должно быть: дар либо есть, либо его нет. Потому что он божественен, а метания исключительно трансцендентны и не познаваемы вне объекта творчества.
У американских же горе-художников, корень слова-призвания которых по давней филологической шутке происходит от «худа», мало того, что роль художника обуржуазилась, так еще нет в культурном багаже явления соцреализма. Этого чистой воды радикализма, подразумевающего следование искусства всяческим нуждам общества с идеологической линейкой. Напасть, берущая начало из кособокого взгляда Белинского на литературу, при Советском союзе продемонстрировала (видимо, от «демона»), каков извлекаемый практический профит из властвующего над умами искусства. «Даже общие представления социума о творческом процессе провоцируют в художнике ослабляющий его внутренний конфликт», - говорится в руководстве, где ранее терапевтически провозглашалось: «Искусство делают обычные люди». Обычные системные винтики, которым не вынести высокого безумия, действительно, боятся крайностей, тогда как настоящее искусство и есть крайность, потрясающая нас. Выходит, что при таком толковании авторы справедливо своекорыстны – пекутся не о столь масштабном общественном эффекте, а о востребованности с коммерческой стороны. Откладывающийся срок оной по жесткой логике сводит на нет усилия и занятия творчеством. Как следствие, социум теряет современного художника в широком смысле, тогда как на противоположном полюсе ему бы тут и появиться.
2. Мифы эпохи постренессанса
Приходясь троюродной сестрой психологии и внучатой племянницей философии, книга «Искусство и страх» не рассматривает тучный перечень распространенных не только в артистической среде фобий и нервозов, накладывающих на поведение и реакции людей отпечаток болезненности, тревожности и индивидуальных пунктиков. Комплекс психологических стимулов – рутинность художественной работы до ровного счета написанных за день слов, преднамеренное оттягивание завершения работы до замысла новой, системное занятие практиками искусства или отказ от мысли стать творцом – и прочие обсессивно-компульсивные неврозы легких форм представляются как творческие стратегии. Заданными мотивациями разрушается романтический миф мастера, равного Создателю, хотя ему и не отказывается в созидании собственной Вселенной. Впрочем, парочку галактик каждый волен разместить в бытописании: «Если какой-нибудь искусствовед замечает, что великое искусство есть результат пересечения особо плодотворных времен и пространств, вы начинаете подумывать, не перебраться ли в Нью-Йорк».
Книга крепко аргументирована, но лишь в окружностях тех законов, которые она принимает. Односторонним рассмотрением грешит и концепция стиля как привычки, а привычки как энтропии восприятия и реакции. То есть привычки, автоматизмы реакций, помогают нам не растрачиваться попусту, сберегать силы для главного. Так, по мнению авторов, появляется индивидуальная манера, и она же не позволяет художнику раз за разом открывать terra incognita. То что стиль это и есть художник или наоборот, об органичности стиля и физиологических предпосылках не вспоминается. Опять же сплошь и рядом уплощенная прагматика.
«Искусство и страх» верхоглядничает, касаясь не только философии и психологии, но и, как это ни поразительно, лингвистики. Натянутым для большинства западноевропейских языков с латинскими корнями выглядит разделение искусства и ремесла. Искусство это также и умение, и мастерство, что входит в расширенную семантику поэзиса. Оппозиция же вырисовывается тривиальной донельзя. Отсюда мнимое беспокойство чисто умственного характера: пан или пропал. Причем укорененные коннотации слов подводят авторов к признанию искусства как области идеального, что затем не мешает последовательно нивелировать его до ремесленнического удела. Любопытен завуалированный дарвинский подход к эволюции классов и видов художников, скорее всего, неосознаваемый, подкожный что ли. Принцип выживания наиболее сильнейшей особи переведен в термины конкуренции, арт-выставок, галерей, тиражей, критических заметок и других видов количественной оценки художественных достижений. Помимо прочего текст разоблачает магическое, иррациональное и суеверное мышления. Своеобразная творческая мнительность попирается постулатом рационального подхода в духе раннего научного позитивизма.
Книга испещрена неосмысленными примерами, обнаруживающими равнение на безусловных гениев. «Много ли Моцартов в музыке?» – спрашивают авторы, размышляя над одаренными детьми и получившимися из них людьми, которые бросили занятия искусством. Психологически изученные феномены вундеркиндов, эйдетиков, синестетиков и прочих в авторской наивности как будто бы и не существуют. Неверная трактовка отношения Платона к творчеству как к выходу «за пределы разума» не отменяет, как хотелось бы авторам, его нацеленность на здесь-бытие, здесь-мышление и здесь-созидание. Однако идея Платона может пониматься и как выход за индивидуальный ограничитель, делающий нас другими, выводящий на очередной виток, на котором только и возможно философствование и творчество, тем более что они сплетены и состоят друг с другом в инцестуальном родстве. Видя в письме функцию памяти, философ считал его низким делом и не принимал за мыслительный процесс. Может, и авторам «Искусства и страха» стоило не записывать своих разговоров, о чем упоминается в главе «О книге», потому что на бумаге они звучат нелепо, претенциозно и неосновательно. Хотя «каждый, вероятно, воспримет ровно столько, сколько сможет, а остальное просто пропустит».




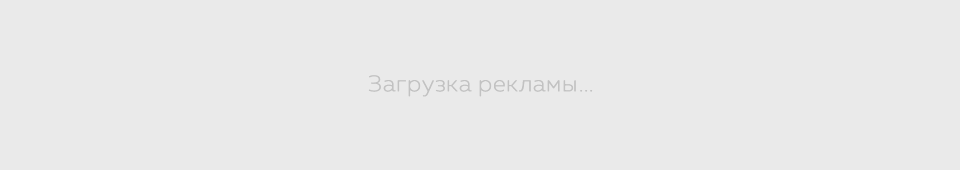

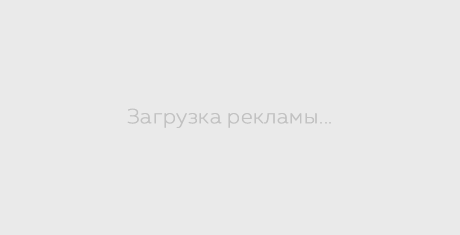








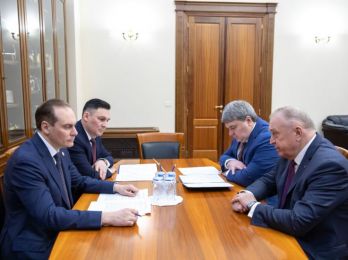



















Написать комментарий